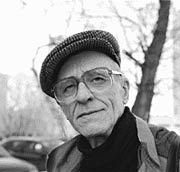|
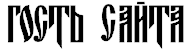
| МЕЖДУ КОРЫСТЬЮ И СОВЕСТЬЮ | |
|
ИНТЕРВЬЮ С ЛИТЕРАТУРОВЕДОМ ВАЛЕНТИНОМ НЕПОМНЯЩИМ
На вопросы корреспондента отвечает известный пушкинист, заведующий сектором и председатель Пушкинской комиссии Института мировой литературы РАН (ИМЛИ), лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, доктор филологических наук Валентин Семенович Непомнящий. - Валентин Семенович, вы раньше научились читать или услышали Пушкина? - Читать научился стихийно, незаметно (лет, кажется, в пять неожиданно прочел какую-то вывеску). Пушкина услышал раньше, чем прочел его, - это уж точно. "Медного всадника", например, и многие стихи Пушкина и других русских поэтов, "Песнь о Гайавате" Лонгфелло в переводе Бунина - всё это знаю по слуху, лет тоже с пяти-шести. Тут всё дело в маме, Валентине Алексеевне Никитиной: она очень часто читала мне - наизусть - перед сном Пушкина, Лермонтова, Майкова, А.К. Толстого, Некрасова, Апухтина, Маяковского, Есенина, да мало ли чего еще... Постоянно напевала некоторые народные песни, романсы Римского-Корсакова и других композиторов, арии из оперетт. Всё это образовало то ли тон, то ли вектор моей внутренней - а в дальнейшем и творческой - жизни. - Кем была ваша мама? - Мои родители - можно сказать, интеллигенты в первом поколении. Впрочем, отец мамы был дворянин, инженер-путеец (я мало о нем знаю, потому что мамины родители рано разошлись), а у матери ее, моей бабки, корни крестьянские (в детстве я немало времени провел у ее родственников в Тверском крае, и с тех пор деревня - такая же неотъемлемая часть моей души и жизни, как и поэзия). Смолоду мама работала на фабрике в Ленинграде, потом секретарем-машинисткой в разных учреждениях, а на пятом десятке поступила в институт, получила высшее образование, работала инженером. Но многие потомственные гуманитарии могли бы позавидовать ее эрудиции и вкусу. Вообще она была человек многих талантов, в частности очень рукастая (что отчасти передалось и мне). Как раз в мои детские годы были разрешены запрещенные раньше новогодние елки - так она сама делала игрушки, и восхитительные, - помню, например, замечательную бумажную гитару со струнами-ниточками... - А отец как-то на вас повлиял? - Пожалуй, меньше. Во-первых, его, непрактичного энтузиаста, всегда целиком занимала работа, так что мама была и главным воспитателем, и хозяином в доме, и "мужиком в семье". Во-вторых, я полдетства, почти всю войну отца не видел. До войны он был судебным репортером, а в июне 1941 пошел на фронт добровольцем - в ополчение, стал военным журналистом. С гордостью носил гвардейский знак, заработал орден Красной Звезды, несколько медалей и тяжелое ранение: вернулся с двумя осколками в правом легком; это и свело его в могилу через двадцать лет после войны, в 59 лет. Это был человек редкой доброты, необыкновенной (как иногда говорят, патологической) честности, бескорыстия и большой храбрости (с этим последним он, правда, не очень соглашался - говорил: какой я храбрец, просто у меня замедленная реакция). Эти его черты для меня незабываемый пример. Но в творческом плане решающую роль сыграла мать. - Как вы пережили войну? - Как многие. До войны жили в Ленинграде. Когда отец ушел на фронт, морское ведомство, где служила мама, отправило нас в эвакуацию в Дагестан: в Махачкале уже много лет жила со вторым мужем и семьей бабушка. Тогда в сознание вошла (и потом не раз входила) Волга: нас везли на пароходе. В Дагестане я и провел всю войну. Поступил в школу - сразу во второй класс, поскольку читать и писать умел, - неплохо познакомился с "синими горами Кавказа", несколько месяцев провел в аулах. Очень много читал. На всю жизнь полюбил радио: детские передачи, симфонические и оперные концерты, радиоспектакли. В 1946 году перебрались в Москву, где отец получил работу. В 1952 году закончил школу и поступил на филологический в МГУ. - Это был сознательный выбор? - В смысле общего направления - конечно. Правда, с отрочества мечтал о музыке - стать, например, симфоническим дирижером. Но музыке меня не учили, да и возможности не было. А любовь к поэзии, к русскому слову уже давно была. Так что подал на филфак, на славянское (за компанию с одноклассником) отделение. Но в тот год был недобор на классическом отделении - и меня, не спрашивая, туда и зачислили. Я был расстроен и возмущен! К чему мне эти древние языки? И только позже понял, какая огромная удача мне была подарена и почему классические предметы - античные языки и литература - были в свое время одной из основ русского гуманитарного образования. Я вместе с однокашниками читал в подлиннике Анакреонта, Катулла, Цезаря, а главное - Гомера, и не могу передать, какое это великое счастье, какая школа интеллекта, вкуса, культуры, как изучение древнегреческого и латыни дисциплинирует ум и учит концептуально мыслить. Был, впрочем, и второй "университет", и он дал мне не меньше, если не больше, чем МГУ, хотя моя "учеба" в нем продолжалась всего около трех лет. Тут, во второй половине 50-х, я приобрел огромный, по моим меркам, творческий и человеческий опыт. Это была театральная студия - первая за многие годы большая самодеятельная студия в Москве, в Сокольниках (Клуб им. Русакова). Организовал ее студент последнего курса режиссерского отделения ГИТИСа, ныне уже покойный, Борис Скоморовский. Был проведен конкурс: из трех с лишним тысяч человек были отобраны 30 с лишним. Мечтой Бориса было создание нового театра. Из этого, скажу сразу, ничего не вышло; но работали мы много и с упоением: сценическая речь, актерское мастерство, этюды, отрывки, даже кукольный театр... В отрывках я сыграл и Гамлета, и Ричарда III, и горьковского Рюмина ("Дачники"), что-то еще и еще - и в конце концов понял, что актер из меня если и получится, то... так себе. Но зато, учась искусству театра, я стал лучше понимать и человеческую психологию, и художественный текст, лучше ориентироваться в жизненной эмпирике и метафизике, в сфере ценностей, одним словом, многому научился в общегуманитарном и вообще человеческом плане. Наконец, в студии обрел самых дорогих моих друзей и ...жену Татьяну, женщину неповторимого обаяния, таланта, ума, юмора, яркую личность, верного друга и единомышленника. В студии же произошла и моя вторая (после детства) серьезная (нынче сказали бы "судьбоносная") встреча с Пушкиным. Руководитель наш, готовясь к экзамену по режиссерской специальности, выбрал последнюю сцену пушкинского "Каменного гостя". Дону Анну играла Нелли Шевченко, теперь замечательный режиссер ТВ (вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, она монтирует мой, снятый весной 2002 г., ТВ-цикл "Пушкин. Тысяча строк о любви"). Роль Статуи Командора досталась Николаю Афонину, нынешнему ректору театрального училища им. Щепкина, а дон Гуана играл я. Тут-то, в работе над этим маленьким спектаклем, над ролью, в произнесении пушкинского текста, мне стало открываться в Пушкине что-то такое, что и сделало меня в дальнейшем пушкинистом. Тогда, думаю, и стали определяться некоторые основы моей будущей исследовательской методологии, и среди них - чтение Пушкина вслух. Такое чтение, в том числе публичное, - один из непременных моих исследовательских "инструментов": ведь поэзия - вещь по природе звучащая, в особенности поэзия Пушкина. Его слово, прочтенное только глазами, лишенное своего звучания в контексте, утаивает от нас огромные пласты своего смысла. Однажды, послушав мое чтение стихов на вечере, устроенном мной на факультете, режиссер тогдашнего Клуба МГУ спросил меня: "Молодой человек, а вы не пробовали... писать?" Вот уж чего я в то время не ожидал! Было это то ли незадолго до того, как я сыграл в "Каменном госте" и, увлекшись пушкинскими "Маленькими трагедиями", читал и перечитывал их, - не помню; но, так или иначе, написал я через некоторое время нечто именно о "Маленьких трагедиях" и отнес, по совету того режиссера, в тогдашнее ВТО (Всероссийское театральное общество). Как раз в это время, окончив МГУ, получив диплом "преподавателя греческого и латинского языков, учителя русского языка и литературы в средней школе", стал работать на швейной фабрике № 3 (теперь это объединение "Вымпел" на Сущевской улице) - делал там заводскую многотиражку. - Заниматься античностью не собирались? - Какая там античность... Я не собирался идти в преподаватели, не было у меня этой тяги - а что мне было делать с античными языками и литературой? Всё это оставалось для меня бесценным культурным багажом, но посвящать себя античной филологии мне и в голову не приходило, да и не был я человеком "научного" склада. Вот мой однокашник, академик Михаил Гаспаров, - он уже тогда и вел себя, и выглядел как настоящий ученый. А я был, в общем, лоботряс, бегал в консерваторию, занимался некоторое время в вокальном кружке, пел в хоре московских студентов, увлекся своей театральной студией... А когда отец устроил меня в фабричную многотиражку, я с увлечением принялся и за газетную работу: делал репортажи из цехов, писал за рабочих и мастеров заметки, обрабатывал стенограммы всяких собраний и совещаний и т.д. С тех пор я - профессиональный редактор. Очень люблю эту работу, точнее - искусство, которому обучился по-настоящему, работая позже в "Литературной газете", а потом, много лет, в журнале "Вопросы литературы". - Из фабричной газеты вы перешли в "Литературную"? - Не то чтобы перешел, а мой университетский друг, ныне известный критик Станислав Рассадин меня туда перетащил. Но удалось это благодаря тому, что еще на фабрике я вступил в партию. - По убеждению? - Ну, как сказать... Я был обычный советский молодой человек с обычной, в общем, советской идеологией - в данном случае шестидесятнического, так сказать, разлива. Работа в газете считалась работой "на идеологическом фронте", и меня просто заставили вступить в партию - впрочем, без всякого с моей стороны сопротивления; ведь тогда, после XX съезда, в среде интеллигенции бытовало мнение, что "порядочные люди должны идти в партию" - чтобы улучшить ее, "испорченную" Сталиным. - Из этого можно сделать вывод, что Ваши родители были неверующими людьми? - Конечно. Советские же люди... Правда, мама лет до двенадцати была верующей девочкой. Но когда в 20-х годах пошла волна "борьбы с религиозными предрассудками" - пропаганда, комсомольский энтузиазм, разрушение храмов, - что-то в ней пошатнулось. Однажды, в деревне, стала на коленях молиться перед иконой, прося Господа дать ей знак, что Он все-таки есть. Знака не последовало, девочка встала и отряхнула коленки... навсегда. Много-много лет спустя, когда я был уже верующим, у меня с ней были очень тяжелые разговоры. Она была человек убежденный, очень умный, начитанный, умеющий рассуждать и спорить, а я-то был неопытный неофит. Но что-то там внутри у нее все-таки шло само - и в самом конце жизни (мама умерла, не дожив года до восьмидесяти, бодрая и с ясным умом) она, как сообщили мне сестры, однажды сама надела крест... Что до отца, то он, насколько я знаю, вообще не был никогда подобной темой озабочен, а умер задолго до моего обращения. Но, вспоминая его доброту, честность, бессребренничество, - вижу душу, которая поистине "по природе христианка". - С "Литературной газеты" началась ваша пушкинистика? В общем, да. Я был редактором отдела русской литературы, через меня шли статьи замечательных писателей, критиков, это была великолепная профессиональная школа. Пушкин в это время уже крепко меня привязал. И как раз приближался 1962 год, 125 лет со дня смерти поэта. Вот я и вспомнил ту работу о "маленьких трагедиях" - и решил взяться за тему заново, написать статью. Написал. И журнал "Вопросы литературы" напечатал ее сходу, во 2-ом номере за 1962 год. Вскоре от Владимира Лакшина я узнал, что работа понравилась А.Т. Твардовскому. Это было для меня событием. Вторая статья, в том же журнале, о современности Пушкина сегодня (она была озаглавлена словами Станиславского: "Сегодня, здесь, сейчас!"), тоже имела успех; после нее ко мне обратился замечательный деятель нашей культуры, покойный Александр Крейн, создатель Пушкинского музея в Москве, на Пречистенке, тогда ул. Кропоткина, пригласил меня в свой музей, который на многие годы стал одним из самых блестящих культурных центров столицы, а для меня - школой публичных выступлений пушкиниста. Но настоящую, не буду скромничать, славу принесла мне третья статья, "Двадцать строк", с подзаголовком "Пушкин в последние годы жизни и стихотворение "Я памятник себе воздвиг нерукотворный". Статья была молодая, романтическая, задиристая, , наивная и не без глупостей, но в ней возникло зерно моего метода: через одно произведение "просматривается" едва ли не весь Пушкин - его жизнь, большой контекст его творчества. Люди постарше помнят, что в то время литературоведческая статья могла стать бестселлером. Тут так и случилось. Во-первых, в ней был очень уж непривычный подход к Пушкину - как к совершенно живому явлению (а не только предмету научного "ведения"). Во-вторых, она была в духе времени, шестидесятнического либерализма с его эзоповым языком и полускрытыми аллюзиями (когда, например, ругали "николаевский режим", а на самом деле разумели советскую цензуру и обком КПСС). В-третьих, в ней впервые в советском пушкиноведении прозвучала религиозная тема. Как это случилось, до сих пор не пойму: я-то считал себя неверующим! Видно, я просто шел послушно за пушкинским "материалом", он-то и вывел меня к этой теме совершенно помимо моих намерений. Заявлялась эта тема довольно безграмотно: в том первом, журнальном ("Вопросы литературы", 1965, № 4) варианте говорилось, например, что герой известного стихотворения "Жил на свете рыцарь бедный" верит в "нечто большее, нежели бог" (последнее слово, натурально, писалось тогда с маленькой буквы). Для меня тогда само собой разумелось, что слово "Бог" означает некую мифологему, в то время как интуиция подсказывала, что существует нечто высшее, поистине требующее веры. То есть меня не устраивало только название... Так или иначе, тема веры, тема "веленья Божия" невольно прозвучала у меня так, как до того не звучала у других, и люди это заметили. Ведь не одни же глупости там были. Поэтому я недавно и включил эту раннюю статью, в сокращенном виде, в двухтомное издание моих избранных работ (М., "Жизнь и мысль" - АО "Московские учебники", 2001). Заканчивалась статья большой цитатой из ахматовского "Слова о Пушкине", 1962 года. Вскоре я узнал, что Анна Андреевна прочла статью и хвалила ее. Через поэта Наталью Горбаневскую, с которой мы учились в МГУ и дружили, я был приглашен Ахматовой в гости: "У нее будет часа полтора времени", - сказала Наташа. Помню, меня это уточнение царапнуло: только-то? вот еще! И в то же время: а что я-то ей скажу? я - Ахматовой!? Одним словом, гордыня и трусость помешали мне встретиться с этой великой женщиной... Простить себе не могу. - А как к вашим работам относились пушкинисты? - Без всякого восторга. Мое направление и мои методы исследования - всё это было им решительно чуждо. Ведь советская пушкинистика, как и вся наша филологическая наука (и не только филологическая), была чисто позитивистской: всё, что выходило за пределы фактологии, вообще материалистического подхода, касалось вопросов души и духа, человеческих ценностей, религиозной проблематики, пусть в самом широком, философско-нравственном смысле, - отвергалось с порога, провозглашалось ненаучным, субъективистским и пр. Выдающийся пушкинист и замечательная женщина Татьяна Григорьевна Цявловская как-то сказала: "Мне очень нравится, как вы пишете, но совершенно не нравится, что вы пишете". А другой патриарх пушкинистики Д.Д. Благой - тот просто-таки разнес мою статью о "Памятнике" на страницах журнала "Известия Академии наук". В его статье, как я, повзрослев, увидел, были кое-какие небесполезные для молодого исследователя моменты, но они были погребены под толстым слоем советского материалистического идеологизма. В прежние годы такая критика могла бы радикально испортить жизнь и судьбу критикуемого, - но годы были уже шестидесятые, и в 1966 году я развернуто и резко ответил в "Вопросах литературы" (№ 7) моему маститому оппоненту; по существу это была атака на методологию и манеру всего большевистского литературоведения. Шум это вызвало, пожалуй, не меньший, чем та моя статья; я получил восторженное письмо от Корнея Ивановича Чуковского, с которым в результате сблизился и который потом сыграл немалую роль в моей жизни. - Вы говорите о советских ученых, хоть и разного масштаба. Но вот Сергей Георгиевич Бочаров - человек верующий, а тоже критикует Ваши работы. - А когда это было, чтобы все верующие шли одной толпой, одной дорогой "из пункта А в пункт Б" и были во всем согласны? Сколько и в Церкви было споров, в которых участвовали, с разных сторон, и святые! - вспомним хотя бы противостояние иосифлян и заволжских старцев. Что уж говорить о мирских людях, занимающихся мирским искусством и наукой... Сергей Бочаров - глубокий, тончайший ученый, филолог-мыслитель, филолог-художник; но у нас разные углы зрения, разные доминанты: его воззрениям более близок наш "серебряный" век, моим - "золотой", его главный предмет - красота, а мой - правда; или лучше так: его предмет - правда красоты, а мой - красота правды. Я - как бы это сказать - малость попроще и погрубее в своих устремлениях, и его это не устраивает. Впрочем, этот наш конфликт (лично-то мы с ним друзья) во всей полноте представлен в сборнике "Литературоведение как проблема", выпущенном ИМЛИ РАН в 2001 году, - там есть и его жесткая критика в мой адрес, перепечатанная из его книги "Сюжеты русской литературы" (М. 1999), и мой не менее жесткий ответ (в сокращенном виде - "Новый мир", 2000, № 10). - Вы говорите, Бочаров - ученый. А себя вы ученым не считаете? - Как сказать... Я профессиональный филолог, и все свои исследовательские задачи, в том числе самого что ни на есть философского порядка, решаю прежде всего на пути филологического анализа текстов. В умении это делать мне не отказывают даже самые непримиримые супостаты. Но определение "ученый" я к себе не очень отношу. Не потому чтобы я был неучем, а потому, что это определение не вполне передает специфику моего подхода и метода. Я скорее филолог-философ, филолог-писатель. Это не значит, что я по-писательски фантазирую на филологической почве (этим-то как раз довольно часто занимаются ученые-позитивисты). Ведь настоящий писатель - это исследователь жизни и человеческой души. Вот и я занимаюсь тем же, но имею дело не с вымышленными героями, судьбами, событиями, явлениями, а с реально существующим Пушкиным - явлением, текстом, личностью, судьбой. В этом смысле я, конечно, не академический ученый. Когда начинал заниматься Пушкиным, я почти и понятия не имел о русской религиозной религиозной философии рубежа и начала XX века (знал только Гершензона, с которым, кстати, спорил в статье о "Памятнике"). И вот прошло много лет, я познакомился наконец с работами таких мыслителей, как отец Сергий Булгаков, С.Л. Франк, И.А. Ильин - и с удивлением обнаружил, что, не зная их, по существу продолжал их дело, порой до полного совпадения в подходах и идеях... - Всё же Вы стали доктором наук? - Стал, потому что это потребовалось - в интересах даже не моих личных, а - той работы, той должности, в какой я оказался. Проработав лет тридцать в журнале "Вопросы литературы", я был приглашен в ИМЛИ: у руководства института возникла мысль возродить Пушкинский сектор, которого в ИМЛИ не было в течение нескольких лет после смерти Д.Д. Благого, - так что я должен был стать чем-то вроде преемника (по должности) моего непримиримого критика. Это было в 1988 году, начали с того, что учредили Пушкинскую комиссию ИМЛИ - неформальное объединение, в которое входили как сотрудники института, так и специалисты "со стороны". Я стал председателем этой комиссии, которая по сию пору работает регулярно, став, в своем роде, постоянно действующей Пушкинской конференцией в Москве. А через десять лет был воссоздан и Пушкинский сектор, и я стал его заведующим. Тут-то меня и "прижали": защищайся! В самом деле, нонсенс: академический институт, а заведующий сектором даже не кандидат наук. Если бы от меня потребовалось писать пухлую диссертацию в соответствующем наукообразном стиле - не знаю, чем бы это кончилось: я и раньше-то, когда предлагали защитить кандидатскую, с ужасом отказывался. Но в нынешней моей ситуации - многолетний стаж, множество публикаций, две большие книги, серьезные (несмотря на все сложности) масштабы репутации и пр. - оказалось, что можно защититься "по докладу" в 2 печатных листа (нынче эта вольность, защита по докладу, да еще минуя кандидатскую степень, кажется, отменена). Но и с докладом было непросто: тогдашний председатель диссертационного совета половину написанного мною забраковал, и мне пришлось ее переделывать (а из забракованного получилась одна из важнейших моих печатных работ). Так или иначе, в самом конце юбилейного Пушкинского 1999 года мой научный статус изменился. - Можно ли считать, что таким образом пришло понимание коллег? - Затрудняюсь сказать. Кстати, и голосование на защите прошло не идеально... При всем том я, насколько знаю, нынче включен в состав Всероссийской Пушкинской комиссии - "высшей инстанции" академического пушкиноведения; еще несколько лет назад этого быть не могло. Нет, на коллег я не обижаюсь, очень многие относятся к моей работе с интересом, уважением, пониманием (хотя, естественно, не без споров и критики), - но чтобы я встречал в профессиональной среде такое же понимание и признание, как у Ахматовой или Чуковского, Твардовского или Товстоногова, Домбровского или Астафьева, Свиридова или Солженицына, - такое встречается редко. Да и слава Богу: куда хуже, если бы появились "адепты" и "последователи". Ведь основная моя тема - духовное и человеческое содержание творчества Пушкина, его внутренний путь, правда которого касается любого из нас, - всё это такая тонкая, такая деликатная и в известном смысле опасная тема, так легко оступиться, свалиться в ту или другую сторону с того поистине лезвия, по которому надо идти (а это со мной случалось, да и случается)... Тут потребен именно личный профессиональный и духовный путь, а не чужой, тут "последователем" быть невозможно... - Вы назвали несколько великих имен. Вы со всеми этими людьми были знакомы? - С Анной Андреевной - нет (по собственной, как уже сказано, вине). С Твардовским только по телефону говорил. А вот с Юрием Осиповичем Домбровским мы по-настоящему дружили. Это был потрясающий писатель и удивительная, очень крупная и мощная личность. У меня есть довольно большой очерк о нем ("Новый мир", 1991, № 5). Виктор Петрович Астафьев в 1990 году сам, что называется, вышел на меня, прочитав осенью того года в "Литературной газете" статью "Предполагаем жить" с подзаголовком "Пушкин. Россия. "Высшие ценности". Какие прекрасные, мудрые, трагические письма я от него получил! Но встретиться не довелось, ушел Виктор Петрович... А с Георгием Васильевичем Свиридовым судьба свела меня лично: он откликался на мои телепередачи о Пушкине, читал кое-что мое, иногда звонил, с праздниками поздравлял. Когда "Новый мир" предложил мне написать о книге "Музыкальный мир Георгия Свиридова", я - не музыковед и не мастер жанра рецензии - чудом каким-то написал статью за одну ночь; это, наверное, потому, что уж очень близка и внятна мне его музыка. Горжусь тем, что небольшую эту статью он назвал лучшим, что о его музыке написано (об этом есть в только что вышедшей книге его записок "Музыка как судьба", М. 2002). Само его существование в нашей культуре, в России, в мире поддерживало, вселяло надежду и уверенность, чувство неодиночества. Помните слова Толстого по поводу смерти Достоевского: "Словно какая-то опора отскочила от меня"? Вот эти слова мне вспомнились, когда умер Свиридов, и не я один мог так подумать... А с Александром Исаевичем Солженицыным я встретился всего несколько лет назад. Правда, задолго до этого уже знал, что он интересуется моей работой, следит за ней и поддерживает меня. Теперь иногда вижу его и не устаю поражаться масштабу личности, духовной мощи этого необыкновенного человека, настоящего русского богатыря. И то, что он сейчас фактически "списан со счетов" нашим "прогрессивным", нашим либеральным "общественным мнением" свидетельствует только о том, что оно формируется в основном пигмеями. - Именно эти художники, а не ученые-филологи были вашими учителями? - Мои учителя - мама, античная литература и классическая филология, симфоническая музыка, русская деревня, Волга; и еще - Федор Михайлович Достоевский, Николай Васильевич Гоголь, Федор Иванович Шаляпин и некоторые другие замечательные люди русской культуры. Одним словом, мой учитель - русская традиция, глава и знамя которой - Пушкин, мой главный поводырь. - Именно русская традиция привела вас в лоно Церкви? - Можно и так сказать. В бытовой же реальности было сплетение многих нитей жизни. В это время я писал первую свою серьезную, как считаю, работу: книгу о сказках Пушкина. Началось это почти случайно; и в процессе писания я то и дело вольно или невольно упирался в религиозную тематику, из-под пера выходило то, о чем раньше и не задумывался. Вокруг всё больше появлялось людей, находившихся в более или менее тесных отношениях с Церковью: в конце 60-х "уход" в религию был одной из форм противостояния режиму и идеологии большевизма. Как раз в это время случилось так, что я, никогда не будучи диссидентом (но имея среди диссидентов друзей и знакомых), организовал коллективное письмо о деле А. Гинзбурга и Ю. Галанскова, которые уже давно - сверх положенного по закону срока - сидели без суда за составление "белой книги" о знаменитом процессе Синявского и Даниэля. В отличие от диссидентских воззваний и писем, это было не шумное, не крикливое, а очень спокойное письмо, основанное исключительно на данных советской прессы, из которых само собой следовало, что творится беззаконие. Письмо подписало 25 человек, среди них Паустовский, Каверин, выдающаяся пианистка Мария Юдина, В. Максимов, В. Войнович и др. Вот это толерантное письмо и вызвало "наверху" самую большую ярость. Меня тут же исключили из партии, понизили в должности и зарплате в журнале (спасибо - не выгнали, а могли бы), на некоторое время запретили публиковаться, отказали в издании книги о сказках. При всем этом исключение было большим счастьем: я получил свободу, сбросил с шеи камень, каким тогда уже был для меня партбилет. Вот это тоже каким-то серьезным образом подвинуло меня на пути к вере. Тут свою роль сыграл Евгений Шифферс, театральный режиссер из Ленинграда, один из самых ярких людей, каких я встречал. Он неустанно "обращал" нас с женой, а мы сопротивлялись: мол, что ты нас за волосы тащишь, мы должны сами к этому прийти! На что он орал: "Я вас из-под поезда вытаскиваю, а вы упираетесь!" Но, пожалуй, решающую роль в нашем воцерковлении сыграл наш сын Павел. Это человек необыкновенный, взрослое дитя, таких в старину называли блаженными. Беззащитен и во многом беспомощен в "низкой жизни", чужд привычных наших условностей в быту и общении, по-детски простодушен, но духовно очень умен, необыкновенно талантлив музыкально: когда хочет - сочиняет романсы, играет на фортепиано, и прекрасно; когда хочет - пишет стихи и рассказы, в которых драматизм восприятия жизни человеком "без кожи" сочетается с ошеломляющим юмором неожиданного, ни на что не похожего характера; когда хочет - изумительно рисует. Поет на клиросе. Язык его невероятно ярок и до первозданности выразителен. Как-то с ним, совсем еще маленьким, мы были в Новодевичьем монастыре, где гуляли как в "музейном" месте. В это время в храме шла служба, и он захотел зайти, и ему там понравилось. В общем, рассказывать долго, но в конечном счете мы благодаря, пожалуй, именно ему, его особенностям, оказались в Церкви. - Вы с женой воцерковлялись одновременно? - Да, мы с ней, несмотря на различие характеров, давно одно целое. - Она тоже филолог? - Нет, Таня - актриса. Некоторое время училась в Щепкинском училище, потом окончила Щукинское. Те, кто когда-то видел ее в маленьком, недолго существовавшем, но объехавшем всю страну театре-балаганчике "Скоморох", помнят это до сих пор. В 70-е годы союзную славу принесла ей телепередача АБВГДейка, где было четыре клоуна: клоун Сеня (С. Фарада), клоун Саня (А. Филиппенко), клоун Владимир Иванович (покойный В. Точилин) и клоун Таня. В нее играли дети во дворах всего Союза. Таню узнавали везде, ночью нас бесплатно подвозили машины и пустые троллейбусы. Многие зрители помнят ее по очень смешному эпизоду фильма А. Митты "Гори, гори, моя звезда". Это актриса огромного трагикомического дара. Но карьеры не сделала, посвятив себя сыну. Она - мой главный собеседник, советчик и критик, у нее точнейший вкус. Многие изречения и мысли я у нее просто ворую. - Валентин Семенович, после крещения были проблемы с воцерковлением, с поиском духовника? - Первое время мы "паслись" у отца Димитрия Дудко. А когда на него наехали на машине и переломали ноги, он отправил нас к отцу Александру Меню. Это был человек необыкновенный, яркий, чистый, увлекательнейший собеседник. Мы ездили к нему исповедоваться и причащаться, но сердцу всё же чего-то не хватало: было ощущение "своего брата"-интеллигента... Когда слежка за ним усилилась, он сам велел нам к нему не ездить: думаю, за Павла беспокоился. Мы вспоминаем его тепло, молимся за упокой, поминаем в церкви. Прошло некоторое время, и Бог свел нас с одним иеромонахом, человеком замечательным, глубоким, прозорливым, настоящим молитвенником. Считаем его духовным отцом, хотя видимся редко: он теперь архимандрит, наместник в далеком монастыре. - В процессе воцерковления изменился круг друзей? - Да, круг сократился, но не только по религиозным причинам, сама жизнь так шла. С либералами взаимное отчуждение происходило давно и неуклонно. К тому же у меня нет вот этого удивительного "таланта дружбы", каким обладал Александр Сергеевич, не хватает меня на постоянное общение: работа институтская и творческая, домашние заботы, может быть, и возраст... Я человек медленный, и времени не остается. "В свете" редко бываю. При всем том очень люблю моих старых друзей. Литераторов в близком окружении нет, хотя знаком со многими. - Вы входите в жюри по вручению премии Александра Солженицына? - Да, вот уже несколько лет. - Как член жюри вы не можете стать лауреатом этой премии? - Нет. К большому сожалению. Кстати, как раз на первом заседании жюри в 1998 году мы долго думали, обсуждали возможные кандидатуры - и вдруг Александр Исаевич хлопнул рукою по столу: "Эх, В. С., рано мы вас пригласили в жюри: не мучились бы сегодня!" Так что могу считать себя "лауреатом нулевого цикла". - Как выбираете лауреата? - Знаете, по Уставу премии процесс присуждения является закрытым. Единственное, что могу сказать: все делают свои предложения, обосновывают их; потом всё это продумывается и обсуждается - и в конце концов вокруг какой-то кандидатуры собирается большинство голосов. Сложности, конечно, бывают, но я не вправе обнародовать детали. - Валентин Семенович, Распутин и Носов могли бы украсить любую литературу, но они были известны еще в советское время. Среди более молодых писателей нет достойных кандидатур? - К сожалению, характер и уровень современной литературы очень осложняет задачу жюри. Поэтому Устав, по инициативе основателя премии, был недавно расширен: теперь рассматриваются не только литературные произведения, но и значительные издательские и музейные проекты, достижения философской и общественной мысли - так, в числе лауреатов истекшего года был, как вы знаете, философ, историк, политолог, культуролог Александр Панарин; церемонию присуждения открывало мое слово о его книге "Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке", напечатанное потом в "Литературной газете". - Когда говорят о высоких достижениях русской литературы советского периода, чаще всего имеют в виду деревенщиков. Можете ли вы расширить этот список? - Деревенщики - конечно, огромное явление русской литературы XX века, его историческая роль еще будет осмысляться - на фоне трагической истории в этом веке русского крестьянства, деревни - этого фундамента всего великого, что было в нашей культуре... Думать на эту тему сейчас страшновато - ибо куда пойдет дальше эта история, сегодня по-своему не менее трагическая, чем в эпоху "великого перелома" и истребления большевиками крестьянства "как класса"? Никогда не забуду недавней фразы моей соседки по деревне, где я много лет живу: " Мы - последние крестьяне". Последние крестьяне - где? На Руси! Это и повторить-то жутко. Вот в таком контексте и нужно сейчас оценивать явление деревенской литературы... Но - если вернуться к вопросу - всё же не одна она была в советское время. При всех кошмарах и тяготах этих семидесяти лет, Россия сумела продолжить великие традиции своей культуры. Не говоря уж о таких вершинах, как "Тихий Дон" или "Василий Теркин", - сколько глубокого и неповторимого создано Платоновым, Булгаковым, Ахматовой, Цветаевой, Грином, Бажовым, Шергиным, Зощенко, Евгением Шварцем, Маяковским, Есениным, Клюевым... да можно перечислять долго... А Гайдар с его "Голубой чашкой" (и не только)? Да, жутковато, что такое идиллическое произведение написано в 1937 году (помните заключительную фразу: "А жизнь, товарищи, была совсем хорошая"?). Но настоящая поэзия - странная вещь, она меряется своими мерками, и о каком бы времени ни говорила, когда бы ни была создана, ко времени она не привязана. Конечно, названные мною писатели родом из традиции XIX века; но есть и такие, чьи корни уже в веке XX: это и Розов, и Володин, и Слуцкий, Искандер, Рубцов, Чухонцев, Битов. Шукшин, Казаков, Вампилов - настоящая русская классика XX века - как и "Привычное дело" Белова, В. Распутин или Ф. Абрамов. Да нет, перечислять можно бесконечно. А какая удивительная детская литература - умная, веселая, человечная! А феномен советской песни - поистине огромное явление культуры! Я не отрицаю, что почти к каждому из тех имен, что я сейчас вспомнил и назвал, может быть разное отношение, но невозможно отрицать, что всё это - большая литература, которая с удивительным достоинством в тяжелейших условиях "тянула", продолжала великую традицию русской классики, оставаясь - я повторял это и буду повторять - самой, быть может, человечной из национальных литератур минувшего столетия. Да и сейчас посреди унылого пейзажа современной литературы нет-нет да и является нечто обнадеживающее. Вот, скажем, повесть Алексея Варламова "Рождение" сильно взяла меня за сердце, я даже всю ее прочитал Татьяне вслух. Выдающимся явлением современной прозы считаю "роман-идиллию" Александра Чудакова (одного из крупнейших наших филологов) "Ложится мгла на старые ступени". Замечательное произведение, сочетающее в себе и мемуар, и "семейную хронику", и роман, и "физиологический очерк", и автобиографию, а всё вместе - картина того, как русская традиция (в широком национально-культурном и общественном смысле) существовала и выжила в условиях большевистского режима. - Валентин Семенович, не только современная литература переживает кризис. В кино, в театре, в живописи, в музыке дела обстоят не лучше. - Дела обстоят так не только у нас, а во всей мировой культуре. Культуру - а она всегда основывается на идеалах - теснит и вытесняет цивилизация, всегда основывающаяся на интересах. Всевластие рынка таково, что порой приходит мысль: а не исчерпало ли искусство свои возможности? способно ли к рождению шедевров? не кончилось ли? Насколько я знаю, что-то подобное утверждает композитор Владимир Мартынов; вспомним, кстати, и "Игру в бисер" Германа Гессе... Если так - не по себе становится. Если так, значит, человек по существу отказался от дарованного ему Богом дара творчества. Уточняю: не от творчества вообще, а от творческой работы над самим собой (в этом и заключается сущность культуры), - отказался ради сытости, комфорта и прочих удобств в дальнейшем потреблении данного ему Богом мира. Но это - гибель, конец человечества. Все мы знаем, что конец истории рано или поздно наступит, и не от этого не по себе, а... от того, что конец этот может быть для человечества позорным. Позорным по причине потери человечеством своего достоинства. Хочется надеяться, что до этого всё-таки не дойдет, что хоть малое стадо да сохранится - в том числе и в области мирской культуры. Тут главная надежда на Россию. Думаю, наше душевное устройство, наш духовный генотип, наши, если хотите, культурные "атавизмы" окажутся достаточно стойкими, чтобы не поддаться духовной американизации, этого соблазна совместного целеустремленного бега к пропасти. Вспомним петровскую эпоху: все сбрили бороды, надели камзолы, закурили табак, заговорили не по-русски, а по-иностранному. Казалось, с Русью кончено, возникает новая нация, динамичная, прагматичная, "цивилизованная": уже не Русь с ее высокими - может быть, слишком высокими, но именно потому животворными идеалами. Казалось... но как раз в этот момент является Пушкин, в деятельности которого Россия преодолела всё разрушительное, что было в "революции Петра" (кстати, это выражение Пушкина), и поставила себе на службу всё, что было в ней созидательного. Наша эпоха, я не раз это говорил, пародийно, трагифарсово похожа на петровскую. И хочется верить, что на этот вызов Россия сможет ответить, как двести лет назад. Основная коллизия современного мира - вовсе не в противостоянии государств, этносов, социальных групп, религий, а во всемирном, тотальном противостоянии корысти и совести; такой коллизии в человеческой истории еще не было. Сохранить наш духовный строй, наше национальное, человеческое достоинство, наши идеалы - то есть возродить и продолжить русскую традицию, русскую культуру - значит выстоять и победить. Смотри также: Интернет-журнал: Документы истории: |