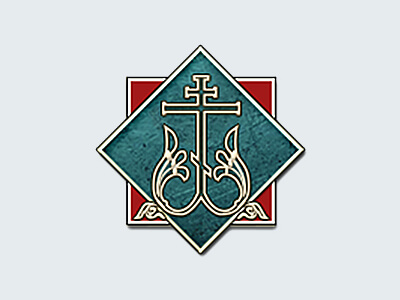Сайт «Православие.Ру» продолжает публикацию фрагментов новой книги церковного историка и канониста протоиерея Владислава Цыпина «История Европы дохристианской и христианской».
 Святители Игнатий Богоносец и Дионисий Ареопагит Мужи апостольские – это прямые ученики самовидцев Божественного Слова – апостолов Христа. Время их земной жизни продолжалось до середины II столетия. В этот период Церковь подвергалась гонениям, которые уже при Домициане приняли систематический характер, а теперь основывались на ясно обозначенных юридических нормах, хорошо известных из сохранившейся переписки Плиния Младшего с императором Траяном. Со стороны римской и провинциальной черни репрессии христиан встречали пылкое одобрение. Иудеи ненавидели христиан как еретиков, с фарисейской точки зрения поправших Закон Моисея или даже впавших в языческое идолопоклонство, а римляне первоначально, пока не рассмотрели ближе состав христианских общин и не обнаружили там больше эллинов и италиков, сирийцев и египтян, чем иудеев, распространяли на них брезгливое предубеждение, с которым они относились к евреям.
Святители Игнатий Богоносец и Дионисий Ареопагит Мужи апостольские – это прямые ученики самовидцев Божественного Слова – апостолов Христа. Время их земной жизни продолжалось до середины II столетия. В этот период Церковь подвергалась гонениям, которые уже при Домициане приняли систематический характер, а теперь основывались на ясно обозначенных юридических нормах, хорошо известных из сохранившейся переписки Плиния Младшего с императором Траяном. Со стороны римской и провинциальной черни репрессии христиан встречали пылкое одобрение. Иудеи ненавидели христиан как еретиков, с фарисейской точки зрения поправших Закон Моисея или даже впавших в языческое идолопоклонство, а римляне первоначально, пока не рассмотрели ближе состав христианских общин и не обнаружили там больше эллинов и италиков, сирийцев и египтян, чем иудеев, распространяли на них брезгливое предубеждение, с которым они относились к евреям.
А о том, в сколь карикатурном виде представлялись римлянам и даже римским интеллектуалам религия, нравы и обычаи иудеев, красноречиво говорит посвященный им пассаж в «Истории» Тацита: «Моисей, желая увековечить себя в памяти иудеев, дал им новую религию, враждебную всем тем, что исповедуют остальные смертные. Иудеи считают богопротивным все, что мы признаем священным, и наоборот, все, что у нас запрещено как преступное и безнравственное, у них разрешается. В своих святилищах они поклоняются изображениям животного, которое вывело их из пустыни и спасло от мук жажды; при этом режут баранов, будто нарочно, чтобы оскорбить бога Аммона; убивают быков, потому что египтяне чтут бога Аписа. Они не употребляют в пищу мясо свиней, ибо животные эти подвержены той же болезни, что некогда поразила народ иудеев… Но каково бы ни было происхождение всех описанных обычаев, они сильны своей глубокой древностью; прочие же установления, отвратительные и гнусные, держатся на нечестии, царящем у иудеев: самые низкие негодяи, презревшие веру отцов, издавна приносили им ценности и деньги, отчего и выросло могущество этого народа; увеличилось оно еще и потому, что иудеи охотно помогают друг другу, зато ко всем прочим людям относятся враждебно и с ненавистью. Они ни с кем не делят ни пищу, ни ложе, избегают чужих женщин, хотя до крайности преданы разврату и в общении друг с другом позволяют себе решительно все; они и обрезание ввели, чтобы отделить своих от всех прочих. Те, что сами перешли к ним, тоже соблюдают все эти законы, но считаются принятыми в число иудеев лишь после того, как исполнятся презрения к своим богам, отрекутся от родителей, детей и братьев. При все том иудеи весьма заботятся о росте своего народа: на убийство детей, родившихся после смерти отца, смотрят как на преступление, души погибших в бою или казненных почитают бессмертными и по этим причинам любят детей и презирают смерть. Тела умерших они не сжигают, а, подобно египтянам, зарывают в землю… Иудеи… верят в единое божественное начало, постигаемое только разумом, высшее, вечное, непреходящее, не поддающееся изображению, и считают безумцами всех, кто делает себе богов из тлена по человеческому образу и подобию. Поэтому ни в городах у них, ни тем более в храмах нет никаких кумиров, и они не ставят статуй ни в угоду царям, ни во славу цезарей».
Когда же римляне выяснили, что христиане не иудейская секта, а новая религия и что среди ее приверженцев преобладают выходцы из их же собственной среды, то к прежним предубеждениям прибавились новые. В среде самых темных и подозрительных элементов распространились обвинения христиан в «Эдиповых смешениях» (заповедь любви воспринималась как поощрение кровосмесительных связей) и в Фиестовых пиршествах – причащение телу и крови Спасителя зложелателями выдавалось за заклание младенцев и людоедство.
Прошли многие десятилетия, прежде чем в языческом окружении христиан сложилось более адекватное и добросовестное представления о вере, богослужении и образе жизни последователей Христа. Тогда главным врагом их стала не легко возбудимая азартная толпа, но правительство Рима. В начале II века, при Траяне и при Адриане, императорские рескрипты, предусматривавшие смертную казнь для христиан в случае доноса на них при добросовестном признании справедливости доноса и отказе отречься от Христа, скорее, сдерживали кровожадные порывы черни, чем поощряли их.
Что же, однако, подталкивало само римское правительство на преследование христиан? Во всяком случае, не искренняя религиозная ревность, потому что в образованном обществе, к которому принадлежали и императоры, и чиновники, преобладало скептическое отношение к традиционным верованиям. Известный кредит имели, правда, философские интерпретации греческих мифов и римского культа в русле платонизма, неоплатонизма или стои, популярные, однако, лишь на интеллектуальных вершинах, но не в толще военно-чиновничьего аппарата. И если Нерон затеял избиение христиан, потворствуя охотничьим вожделениям толпы и стремясь отвести народный гнев, вызванный пожаром Рима, от собственной персоны, то императорам из династии Антонинов чужды были вульгарные демагогические методы управления, так что преследовать христиан ради угождения народу они бы не стали.
Римское государство, однако, держалось на официальном государственном культе, а он не мог ни инкорпорировать христианство (которое, как и религия иудеев, было несовместимо с иными верованиями и в духовном плане претендовало на монополию и исключительность), хотя государственный культ и вобрал в себя даже столь экзотическое на традиционный римский религиозный вкус египетское богопочитание с его Аписами и священными скарабеями, ни игнорировать его существование и воочию наблюдаемое неуклонное распространение: официальная религия вынуждена была защищаться от вытеснявшей ее из сердец и умов римских граждан, подданных и рабов веры в единого Бога Творца и в Сына Божия Иисуса Христа. А защищаться приходилось не универсальной римской религиозной корпорации, которая бы этой своей универсальностью была подобна церкви, а, за отсутствием таковой, Римскому государству, располагавшему свойственными именно ему средствами.
Именно на это обстоятельство указывал В.В. Болотов в своей принципиально верной оценке сложившейся ситуации: «В Римской империи не было величины, равной Церкви, то есть не было церкви языческой. Что у христиан относилось к сфере церковной деятельности, то в Риме относилось к сфере деятельности государственной. Жрецы, понтифики, фламины были государственные чиновники; поэтому в силу исторической необходимости тот вызов, который христианская Церковь бросила языческой вере и на который должна была ответить языческая церковь, приняло государство… Христианство требовало известной льготы… Прямо оно предъявляло только одно положение, что религия есть дело личных убеждений и личной совести. Римская империя отвечала противоположным тезисом: религия устанавливается не индивидуумом, а народом или его представителями в государстве»[1]. Иными словами, Церковь вступила в неизбежный конфликт с тоталитарным государством, которое в ХХ столетии неудачно пытался имитировать Б. Муссолини.
Найти иной выход из сложившейся коллизии, кроме попытки уничтожить вторгшееся инородное и несовместимое с государственным организмом тело, римское правительство не смогло. Поэтому христиане были объявлены вне закона: для Римского государства христианин был «hostis publicus deorum, imperatorum, legum, morum, naturae totius inimicus» – «общественный враг богов, императоров, законов, недруг всей природы». Реальная политика в отношении Церкви в правление разных императоров колебалась, свирепые преследования с розыском христиан, их казнями, истреблением священных книг, как при Максимине или Декии, сменялись относительной терпимостью, выливавшейся порой даже в благожелательное сочувствие, как во времена Александра Севера или Филиппа Араба, но законодательство, известное нам лучше всего из рескриптов Траяна, которые никогда не отменялись, оставалось неизменным. Наглядным графическим изображением ритма гонений с нарастаниями и спадами интенсивности будет синусоида или волнообразная линия.
Церковная традиция насчитывает 10 гонений: Нерона, Домициана, Траяна, Марка Аврелия, Септимия Севера, Максимина, Декия, Валериана, Аврелиана и Диоклетиана, – которые уподобляются 10 казням египетским и 10 рогам апокалиптического зверя, но в этом их исчислении есть доля условности. Если в перечень императоров-гонителей включать лишь тех, кто развязывал кампании преследований христиан, охватывавшие всю империю, то число их придется сократить, а если учитывать также региональные, локальные гонения, то в черный список врагов Церкви придется включить Коммода, Каракаллу, Гелиогабала и других принцепсов.
Необъяснимый с точки зрения здравого исторического смысла или, лучше сказать, имманентной политической логики провал религиозной политики могущественной сверхдержавы древнего мира, перемоловшей сотни народов и племен, пытавшихся отстоять свою независимость, является фактом величайшей исторической важности и одним из самых поразительных исторических уроков. Опыт за опытом гонения христиан давали обратный эффект, приводили сразу или скоро потом к результатам, противоположным тем, на которые рассчитывали гонители, порой отличавшиеся исключительным политическим даром и даже гениальностью, как Траян или Диоклетиан, стоявшие на вершине интеллектуальных возможностей человека, как Марк Аврелий. Их усилия оказались тщетными: остановить распространение Церкви, которая виделась им недугом, смертельно опасным для государства, для общественного блага, они не смогли. Для христианского сознания, для христианского восприятия исторических событий за всем этим открывалось действие Промысла Божия, исполнение обетования Спасителя: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16: 18).
Проникнуть в тайну Божественных планов и замыслов не дано тварному человеческому рассудку, но их присутствие и их плоды можно обнаружить в исторических явлениях. Человек и человеческие сообщества при этом не являются слепыми и бессильными орудиями Божественной воли. Исторический процесс представляет собой своего рода прагматический диалог между Промыслом и добровольно покоряющейся Ему или дерзающей восставать на Него волей человеческой, индивидуальной и властвующей лишь над самим ее носителем или держащей в узде целые народы и государства. Промысл Божий о торжестве Его Церкви на заре ее истории совершался действием Благодати и подвигом христианских мучеников, бессильных противостоять гонителям вещественным и земным оружием, но вновь и вновь одерживавших над ними духовную победу. В древних мартириях мученики часто именуются атлетами (афлите) веры, а их подвиг агиологи называют агоном, бранью, победоносным состязанием, в котором только внешним образом им противостоят палачи и стоящая за ними государственная мощь, в действительности же – духи злобы.
Само греческое слово «мартис» не содержит в себе указания на мучение, которое послужило основой для его перевода на славянский и русский язык как «мученик». Оно обозначает, собственно, «свидетель», в переводе на арабский – «шахид». В западные романские и германские языки это слово вошло без перевода, но в самом восприятии его акцент, как и в русском, стал делаться на претерпевании пыток, мучений. Но, как писал В.В. Болотов, «слово “мученик”, которым переводится у славян греческое мартис – “свидетель”, передает лишь второстепенную черту факта как отзыв непосредственного человеческого чувства на повествование о тех ужасных страданиях, которые переносили мартирес… В истории о мучениках нас, отделенных от начала христианства многими веками, поражают, прежде всего, те истязания, которым они подвергались. Но для современников, знакомых с римской судебной практикой, эти истязания были явлением обычным… Пытки на римском суде являлись обыкновенным законным средством дознания. К тому же, и нервы римского человека, привыкшего к возбуждению кровавыми зрелищами в амфитеатрах, так были притуплены, что жизнь человека ценилась мало. Так, например, показание раба, по римским законам, только тогда имело значение на суде, если оно было дано под пыткой, и свидетелей-рабов пытали… При том же, христиане обвинялись в уголовном преступлении – “в оскорблении величества”, а к подсудимым этого рода суды имели законное право применять пытки в обилии»[2].
Для древних христианский мученик был, прежде всего, не жертвой, но свидетелем веры, героем веры, победителем. Попросту говоря, люди, наблюдавшие эту его борьбу и одержанную им победу, обнаруживавшуюся в том, что палачи оказались бессильны заставить его отречься от Христа, убеждались в том, что выдержавший пытки и претерпевший добровольную смерть христианин обладает ценностью, которая выше всего, что есть на земле, потому что самой несомненной земной ценностью человека является его жизнь, и если христианин жертвует ею, то он делает это ради блага, превосходящего временную жизнь. В восприятии одних зрителей истязаний и казней вера жертвующих жизнью христиан была проявлением неразумного суеверия упрямцев, пребывающих в плену иллюзий, но для других наблюдаемый ими подвиг мученика становился исходным импульсом внутреннего переворота, началом переоценки прежних ценностей, призывом к обращению. И, как известно из житий древних мучеников, порой такое преображение души совершалось с ошеломляющей скоростью, так что даже судьи, приговаривавшие христиан к казни, и палачи, уже готовые приступить к своему ремеслу, пораженные верностью и стойкостью осужденного на смерть христианина, сами громогласно исповедовали Христа и кровью свидетельствовали о своей приверженности только что обретенной ими вере в Него. Чрез мученичество христиане соединялись со Христом, и радость общения с Ним они не только обретали за гробом, но предвкушали уже здесь, в самих страданиях за Него.
На состояние души мученика, поглощенного предстоящей ему встречей со Спасителем, обильный свет проливает подвиг епископа Антиохийского священномученика Игнатия, и не только посвященные ему мученические акты, но еще больше письмо, обращенное к христианам Рима, куда его везли под стражей, чтобы там, по приговору, вынесенному, по церковному преданию, самим Траяном, вывести его на арену на растерзание зверей. Святой Игнатий, прозванный Богоносцем, возглавлял Антиохийскую Церковь после Еводия – более точных сведений о начале его епископства нет. Судя по не вполне правильному греческому языку его посланий, а также по тому, что в них мало ссылок на Ветхозаветные книги, он был не греком и не иудеем, но, вероятно, сирийцем. Косвенным образом это предположение подтверждается его пламенным темпераментом, экстатическим тоном его писаний.
Мученический акт святого Игнатия, хотя он позднего происхождения и его составление относится к рубежу IV и V столетий, по всей вероятности, верно передает хранившиеся в церковной памяти основные сведения о допросе святого императором Траяном и о вынесенном им приговоре: «Траян: Кто ты, злой демон, что стараешься нарушить наши законы, да и других убеждаешь к тому же, чтобы они погибли несчастно? – Никто не называет Богоносца злым демоном: злые духи бегут от рабов Божиих. Если же ты называешь меня злым для этих демонов, потому что я неприятен им, я согласен. Имея Христа, Пренебесного Царя, я разрушаю их сети. – А кто такой Богоносец? – Тот, кто имеет Христа в сердце своем – Разве мы, думаешь ты, не имеем в душе богов, которые помогают нам против врагов? – Ты заблуждаешься, называя египетских демонов богами. Один есть Бог, сотворивший небо и землю, море и все, что в них, и Един Христос Иисус, Единородный Сын Божий, Который да будет ко мне милостив. – Ты говоришь о Распятом при Понтии Пилате? – Да, о Том, Который распял на кресте мой грех вместе с виновником его и всю демонскую лесть, всю злобу осудил и поверг к ногам тех, кто носили Его в сердце. – Итак, ты носишь в себе Распятого? – Да, ибо написано: вселюся в них и похожду. – Повелеваем Игнатия, который говорит, что носит в себе Распятого, отвести в оковах в Рим под воинской стражей и там предать на съедение зверям для забавы народа».
В Письме к римлянам святой Игнатий находит слова, исполненные удивительной силы, чтобы передать овладевшую им жажду сораспинания Христу: «Я пишу Церквам и всем сказываю, что добровольно умираю за Бога, если только вы не воспрепятствуете мне. Умоляю вас: не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия: пусть измелют меня зубы зверей, чтоб я сделался чистым хлебом Христовым. Лучше приласкайте этих зверей, чтобы они сделались гробом моим и ничего не оставили от моего тела, дабы по смерти не быть мне кому-либо в тягость. Тогда я буду поистине учеником Христовым, когда даже тела моего мир не будет видеть. Молитесь о мне Христу, чтоб я посредством этих орудий сделался жертвою Богу. Не как Петр и Павел заповедую вам. Они апостолы, а я осужденный: они свободные, а я доселе еще раб. Но если пострадаю – буду отпущенником Иисуса и воскресну в Нем свободным. Теперь же в узах своих я учу не желать ничего мирского или суетного»[3]. Погруженный в мысли о предстоящей ему арене, подвергаемый унижениям со стороны конвоиров, священномученик не теряет чувства юмора: «На пути из Сирии до Рима, на суше и на море, ночью и днем я уже борюсь со зверями, будучи связан с десятью леопардами, то есть с отрядом воинов, которые от благодеяний, им оказываемых (речь идет, вероятно, о том, что христиане местных Церквей на пути святого Игнатия в Рим пытались задобрить охранников, чтобы те благосклонней обращались с узником. – п. В.Ц.), делаются только злее. Оскорблениями их я больше научаюсь, но этим не оправдываюсь». Затем от леопардов в облике человеческом мысль святого снова обращается к зверям, с которыми он встретится на арене: «Молюсь, чтоб они с жадностью бросились на меня. Я заманю их, чтоб они тотчас же пожрали меня, а не так, как они некоторых побоялись и не тронули. Если же добровольно не захотят, я их принужу. Простите мне; я знаю, что мне полезно. Теперь только начинаю быть учеником. Ни видимое, ни невидимое – ничто не удержит меня прийти к Иисусу Христу. Огонь и крест, толпы зверей, рассечения, расторжения, раздробления костей, отсечение членов, сокрушение всего тела, лютые муки диавола придут на меня – только бы достигнуть мне Христа… Нет во мне огня, любящего вещество, но вода живая, говорящая во мне, взывает мне извнутри: “Иди к Отцу”… Хлеба Божия желаю, хлеба небесного, хлеба жизни, который есть плоть Иисуса Христа, Сына Божия»[4]. Какими же средствами могло располагать Римское государство, чтобы сокрушить дух такого христианина? Их у него очевидным образом не могло существовать по природе вещей. А если, к тому же, мученическая смерть призывала ко Христу Его новых последователей, то дела гонителей были действительно плохи, и их затея в конечном счете была обречена на провал.
Из двух возможных дат кончины святого Игнатия – 107 или 117 год – В.В. Болотов, опираясь в своих выкладках на хорошо известный факт посещения Траяном кафедрального города святого Игнатия в 115 году, когда там случилось страшное землетрясение, в котором погиб консул Марк Вергилиан Педо, а сам император едва остался жив, выпрыгнув в окно, выбирает 117-й. В обстановке охватившего горожан ожесточения против христиан, накликавших своим «безбожием» на город беду, Траян, как полагает историк, отдал их предстоятеля «на растерзание зверям в Риме».
Из церковного предания известно, что когда Игнатия вывели на арену амфитеатра, он «беспрестанно повторял имя Христово. “Что ты повторяешь одно и то же слово?” – спросили его воины. Святой Игнатий ответил: “Оно написано у меня на сердце, потому и повторяют его уста”»[5]. Звери сразу растерзали тело мученика, так что от него осталось лишь несколько костей, которые антиохийские христиане, имевшие возможность сопровождать своего епископа до конца, бережно собрали и отослали в родной город, где они стали предметом почитания.
Кроме римлян, Игнатий Богоносец направил послания еще пяти малоазийским общинам: Ефеса, Магнезии, Тралл, Филадельфии и Смирны – и своему другу епископу Смирнскому Поликарпу. Они написаны были, вероятно, когда он на пути в Рим останавливался в этих городах, и местные христиане могли общаться с ним. Судя по наставительному тону посланий, авторитет этого «мужа апостольского» был исключительно высок и в Сирии, и в Малой Азии.
 Святитель Поликарп Смирнский В Послании святого Игнатия Поликарпу Смирнскому начертан образ истинного пастыря, облеченного благодатию епископского служения: «Я преисполнен благодарности к Богу, что удостоился видеть непорочное лицо твое, которым желал бы всегда наслаждаться о Боге… Старайся о единении, лучше которого нет ничего. Снисходи ко всем, как и к тебе Господь. Ко всем имей терпение в любви, как ты и поступаешь. Пребывай в непрестанных молитвах. Проси большего разумения, нежели какое имеешь… Носи немощи всех, как совершенный подвижник… Во всем будь мудр, как змея, и незлобив, как голубь». Святой Игнатий поручил временному попечению Поликарпа свою антиохийскую паству и просил его ревностно заботиться о ее духовном благополучии.
Святитель Поликарп Смирнский В Послании святого Игнатия Поликарпу Смирнскому начертан образ истинного пастыря, облеченного благодатию епископского служения: «Я преисполнен благодарности к Богу, что удостоился видеть непорочное лицо твое, которым желал бы всегда наслаждаться о Боге… Старайся о единении, лучше которого нет ничего. Снисходи ко всем, как и к тебе Господь. Ко всем имей терпение в любви, как ты и поступаешь. Пребывай в непрестанных молитвах. Проси большего разумения, нежели какое имеешь… Носи немощи всех, как совершенный подвижник… Во всем будь мудр, как змея, и незлобив, как голубь». Святой Игнатий поручил временному попечению Поликарпа свою антиохийскую паству и просил его ревностно заботиться о ее духовном благополучии.
Священномученик Поликарп надолго пережил своего друга Игнатия Богоносца и вообще своих современников. Общавшийся в юности с апостолами, которыми и был поставлен на Антиохийскую кафедру, и в особенности с «возлюбленным учеником» Господа Иоанном, он пострадал за Христа в середине II столетия, вероятно в 155 году, при Антонине Пие. Поликарп составил несколько посланий, адресованных соседним со Смирной азийским Церквям, но сохранилось из них лишь одно, обращенное к филиппийцам. Оно написано было в ответ на просьбу филиппийских христиан прислать им все имевшиеся у него послания святого Игнатия. И Поликарп, откликаясь на эту просьбу и высылая послания незадолго до этого растерзанного в Риме зверями мученика, сопровождает их своим собственным письмом, сохранившимся в переводе на латинский язык: «Послания Игнатия, присланные им к нам, и другие, сколько их есть у нас, мы отправили к вам… Вы можете получить из них великую пользу. Ибо они содержат в себе веру, терпение и всякое назидание в Господе нашем. Что вы узнаете верного о самом Игнатии и его спутниках, сообщите нам».
Как известно из Послания Смирнской Церкви к христианской общине в Филомелии Фригийской, казни Поликарпа предшествовали языческие празднества в Смирне. Для развлечения горожан на растерзание зверям были брошены 12 приговоренных к смерти христиан из Филадельфии. Один из них, Квинт Фригиец, сам себя выдавший властям, увидев зверей, устрашился и отрекся от Христа, зато другой из схваченных, Германик, поразил зрителей своим героическим бесстрашием: «Проконсул хотел переубедить его: указывал на его возраст, старался, ссылаясь на его расцветающую юность, возбудить в нем жалость к себе, но юноша немедля с готовностью привлек на себя зверя, дразнил его и натравливал, лишь бы поскорее избавиться от этой жизни с ее неправдой и беззаконием». Возбужденная кровавым зрелищем толпа потребовала предать смерти предстоятеля Смирнской Церкви. Раздались крики: «Смерть безбожникам! Разыскать Поликарпа!»
Поликарп по настоянию своей паствы скрылся в близлежащей деревне. Когда он молился, ему было видение: горело изголовье его постели. И он сказал тогда своим близким, что будет сожжен заживо. Предупрежденный о приближении искавших его воинов, святой переменил убежище, но его местонахождение под пытками выдал один из рабов-христиан. Когда Поликарпа схватили, воины были поражены тем спокойствием и благодушием, с которыми он ожидал мучительной казни. По дороге в Смирну конвой с Поликарпом встретил колесницу, в которой ехали муниципальный начальник иринарх Ирод со своим отцом Никитой. Они взяли святого старца в свою колесницу и по дороге уговаривали его исполнить требуемое для спасения жизни: «Что плохого сказать: “Владыка – кесарь”, принести жертву и сохранить себе жизнь?» Поликарп сначала не ответил, а когда они стали приставать к нему, сказал: «Что вы мне советуете, делать не собираюсь». В гневе на его упрямство «доброжелатели» вытолкали его из своей колесницы, и при падении он повредил колено, но спокойно продолжал идти под конвоем.
Допрашивал Поликарпа проконсул Азийской провинции Статий Квадрат, а происходило это в Великую субботу. «Проконсул спросил его: “Ты Поликарп?” И после утвердительного ответа стал уговаривать отречься: “Уважь свою старость… Поклянись фортуной кесаря, одумайся, скажи: "Смерть безбожникам!"” Поликарп… сказал: “Смерть безбожникам!” А проконсул настаивал, говоря: “Поклянись, и я отпущу тебя; обругай Христа”… Поликарп же сказал: “86 лет я служу Ему, и Он ничем меня не обидел. Могу ли хулить Царя моего, спасшего меня?”». Даже когда на возобновленное предложение поклясться фортуной кесаря святой произнес слова, после которых по закону подлежал казни: «Мысли у тебя насчет того, чтобы я поклялся фортуной кесаря, пустые. А как ты притворяешься, что не знаешь, кто я, то выслушай слово свободное: я христианин; если хочешь узнать учение христианина, отведи на это день и выслушай», проконсул не спешил выносить приговор, давая понять подсудимому, что не он сам, а народ хочет его смерти: «Убеди народ». Поликарп сказал: «Тебя я удостоил разговора, потому что нас наставили воздавать подобающую честь властям и правителям, поставленным Богом, если это нам не на пагубу. Они же, по-моему, недостойны того, чтобы перед ними защищаться». Проконсул сказал: «У меня звери: напущу на тебя, если не переменишь мыслей». Он же сказал: «Зови. Нельзя нам менять хорошее на плохое; хорошо отойти от худого к справедливому». Он опять ему: «Усмирю тебя огнем, если тебе нипочем звери и если не передумаешь». Поликарп сказал: «Ты грозишь огнем, который горит свое время и скоро гаснет, а не знаешь ты, что для будущего суда и вечного наказания нечестивцам готов огонь. Зачем медлишь? Делай, что хочешь!»
Допрос кончился. Проконсул послал глашатая три раза возгласить на стадионе: «Поликарп признал себя христианином!» «Когда глашатай сказал это, тогда вся толпа язычников и иудеев, проживающих в Смирне, не в силах сдерживаться, подняла неистовый рев: «Он учитель Асии, он отец христиан; наших богов отрицает и многих учит не приносить им жертв и не чтить их». Говоря так, они стали кричать и просить асиарха Филиппа выпустить на Поликарпа льва. Он сказал, что это нельзя, потому что борьба со зверями закончена. Тогда решили единодушно кричать, чтобы Поликарпа живого сжечь».
Когда сложили костер из дров и хвороста, священномученик сам снял с себя одежду и обувь. Затем он в молитве благодарил Господа за то, что Он удостоил его мученичества. По окончании молитвы костер подожгли, но, как пишут смирнские христиане, «пламя образовало нечто вроде свода: словно парус, полный ветром, оградил кругом тело мученика, и он стоял посередине не как плоть горящая, а как золото и серебро, очищаемое огнем в печи. Мы ощущали такое благоухание, как от курящегося ладана и какого-то другого драгоценного аромата. Наконец беззаконные увидели, что не могут уничтожить его тело огнем, и велели палачу пронзить его мечом. Когда он это сделал, то хлынуло столько крови, что потушило огонь». Описание кончины святого Поликарпа заканчивается рассказом о том, как христиане хотели сберечь его останки, но власти, по наущению иудеев, сожгли их из опасения, «как бы они, бросив Распятого, не стали почитать его… Центурион, видя иудейскую склочность, положил его тело на виду у всех, как это у них принято, и сжег его; мы же потом собрали его кости, которые дороже драгоценных камней и благороднее золота, и положили их, где следовало».
Нелепые опасения того, что смирнские христиане могут переменить поклонение распятому Спасителю на почитание своего епископа Поликарпа, представляют собой характерную черту, подтверждающую достоверность мученического акта, каковым является Послание из Смирны к христианам Филомелии Фригийской, написанное вскоре после смерти предстоятеля их Церкви. Из этого документа видно, что во II столетии самым опасным врагом Церкви оставалась толпа, легко возбудимый охлос, а власти отчасти идут на поводу у народа, отчасти же пытаются сдерживать его кровожадность, действуя по законам, восходящим к рескриптам Траяна, по которым сама власть христиан не разыскивала, кода же на них поступал донос, им самим предстояло сделать выбор: отречься и тем избежать казни либо сохранить веру, открытое исповедание которой каралось смертью.
В сокровищницу древнехристианской письменности эпохи мужей апостольских, помимо посланий священномучеников Климента Римского, Игнатия Антиохийского и Поликарпа Смирнского, вошла и такая своеобразная книга, как «Пастырь», написанный Ермом, римлянином, жившим в первой половине II столетия; по некоторым сведениям, он был братом Римского епископа Пия и носил в действительности имя Ермий. Как и большинство римских христиан, Ерм говорил по-гречески, на этом языке написан и его «Пастырь», но наличие в тексте этого сочинения многочисленных гебраизмов дает основание предполагать, что у Ерма было еврейское происхождение. В своей книге автор рассказывает, как он был продан в рабство и отправлен в Рим, как рабом он трудился на поле, расположенном при дороге, которая вела из Рима в Кумы. Впоследствии он обрел свободу, имел семью и детей, которые, однако, во время гонений отреклись от веры во Христа.
«Пастырь» Ерма – это запись откровений, полученных автором от таинственной пожилой матроны, символизирующей Церковь, и от ангела в образе пастуха, или пастыря, – отсюда идет и название книги, которая состоит из трех частей: «Видения», «Заповеди» и «Притчи». Пафос «Пастыря» – в предсказании надвигающихся на Церковь новых гонений, в призыве к верности Христу, аскетическому воздержанию и целомудрию, а также в учении о спасительности покаяния. Обращаясь к читателям-христианам, Ерм предостерегает их от погруженности в попечения о житейском благополучии и напоминает им об их небесном отечестве: «Пастырь сказал мне: “Знаете ли, что вы, рабы Божии, находитесь в странствии? Ваш город находится далеко от этого города. Итак, если знаете ваше отечество, в котором имеете жить, то зачем здесь покупаете поместья, строите великолепные здания и ненужные жилища? Ибо кто приготовляет такие вещи в этом городе, тот не помышляет о возвращении в свое отечество. Несмысленный, двоедушный и жалкий человек, не понимаешь ли, что все это чужое и под властью другого?.. Делайте дела Божии, помня о заповедях Его и обетованиях, Им данных, и веруйте Ему, что Он исполнит их, если будут соблюдены Его заповеди. Вместо полей искупайте души от нужд, сколько кто может, помогайте вдовам и сиротам; богатство и все стяжания ваши употребляйте на такого рода дела, на которые вы и получили их от Бога».
К числу древнехристианских памятников принадлежит и «Дидахи, или Учение 12 апостолов». Изречения апостолов пользовались в первенствующей Церкви самым высоким авторитетом. Некоторые из них записывались после их смерти, по памяти. В результате появлялись сочинения, которые не принадлежали апостолам как ими написанные или ими продиктованные тексты, подобные тем, что вошли в Новый Завет, но которые, тем не менее, проникнуты подлинно апостольским духом. Таким творением было и «Дидахи». Уже в древности оно было утрачено и основательно забыто, но в XIX веке его открыли вновь. Первым памятник обнаружил архимандрит Антонин (Капустин) в 1862 году, но в науку он вошел благодаря тому, что был опубликован в 1883 году греческим ученым митрополитом Филофеем Вриеннием.
«Учение 12 апостолов» восходит к рубежу I и II столетий. В нем от лица апостолов излагаются наставления о христианской вере и нравственности. Начинается оно со слов о том, что «есть два пути: один – жизни и один – смерти… И вот путь жизни: во-первых, возлюби Бога, создавшего тебя; во-вторых, ближнего своего, как самого себя». А вот путь смерти: прежде всего, он зол и полон проклятия. Тут убийства, прелюбодеяния, страсти, блуд, воровство, идолопоклонство, чародейство» и иные грехи. В «Дидахи» содержатся сведения о совершении таинств евхаристии и крещения: «Крестите в живой воде во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если же нет живой воды, крести в другой воде; если не можешь в холодной, то в теплой. А если нет ни той, ни другой, возлей воду на голову трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа. А перед крещением крестящий и крещаемый должны поститься». О приступающем к причащению святых таин сказано, что, если он сознает за собой грехи, «пусть покается». Это одно из первых упоминаний о таинстве покаяния.